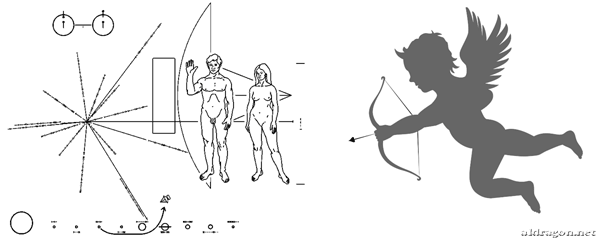…Къянджин Гомпа, национальный парк Лангтанг, 3800 метров над уровнем моря. Последний пункт общедоступного трекинового маршрута — дальше только с палатками, горелками, запасами продуктов и прочими атрибутами серьезного горного туризма. Максимальная, пожалуй, концентрация яков на квадратный метр площади, погонный метр тропы и кубический метр воздуха, который, кажется, налит на дно ущелья и лишь чуть смачивает его стенки. Попробуй-ка подняться налево — к Лангтанг Лирунгу, или направо — на перевал Ганжа Ла, и почувствуй, сколько там той атмосферы... Декабрь. За окном гестхауза глубокая темнота и безмерный холод. Безмерный, потому что из способов оценки температуры доступны только толщина льда в бутылке с водой на улице (этот прибор под утро уже зашкаливает), толщина льда в бутылке с водой в комнате (а этот только-только снимается с нулевой отметки — пока еще более-менее терпимо) и усилие, необходимое для откусывания пришедшего в тепловое равновесие с окружающей средой «Сникерса».
— …А снег тут зимой бывает? — спрашиваю у хозяйки лоджа.
— Да, — отвечает, — бывает, иногда очень-очень много бывает — и проводит рукой на уровне бедер. — Две недели, три недели.
Течёт неспешный разговор. О туристах, о погоде, о прогрессе и традициях. О яках. Об их разведении, доении, вычёсывании...
— А яков вы как-то подкармливаете? Запасаете им какую-то еду?
— Нет, — отвечает слегка удивленно, как будто я спросил её, помогают ли местные жители горным рекам течь, ледникам — скользить по склонам, Луне и Солнцу — восходить. — Нет. Як просто ходит вокруг и сам находит, что съесть.
— Ммм... А когда снег, глубокий снег? Что тогда ест як?
— Як стоит и ждёт, когда снег растает.
Задумчиво пью имбирно-лимонный чай. Молчу. Пересечения наших с хозяйкой английских словарных запасов явно не хватит, чтобы передать ту смесь восторга, грусти и слегка панического узнавания, которая меня сейчас охватывает — смесь мрачной решимости, апатии, отчаяния и уверенности в лучшем — ещё предстоит понять, в каких пропорциях это всё в ней содержится. Да что там, её и на родном-то языке передать не так легко.
«Деточка, все мы немножко яки…»
Мы стоим в глубоком холодном снегу — и даже если стоим плотной кучей, всё равно каждый из нас ощущает себя как последняя точка текста, которой из-за какого-то сбоя алгоритмов верстки вдруг досталась целая последняя страница. Белая и пустая.
«…каждый из нас по-своему як».
Мы стоим и ждём, когда снег растает.